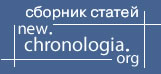|
Жерар де Нерваль (1808 – 1855). Из статьи «Поэты XVI века» (1830):
...Спросим себя: существовала ли национальная литература до Ронсара, литература завершенная, способная только сама по себе, без посторонней помощи, вдохновлять гениальных людей и давать пищу для широких концепций? Одно простое перечисление убедит нас в том, что такая литература существовала и, как сама нация, была четко разделена на две части, из которых одна (та, что названа немецкими критиками «рыцарской литературой») обязана своим происхождением нормандцам, бретонцам, провансальцам и франкам; а другая, преимущественно народная, зародилась в самом сердце Франции и вполне точно определяется прилагательным «галльская». Первая включает в себя исторические поэмы, такие, как «Роман о Ролланде», «Роман о Бруте», «Филиппида», «Битва тридцати бретонцев» и т. д.; рыцарские поэмы, такие, как «Святой Грааль», «Тристан», «Партонопей», «Ланселот» и т. д.; аллегорические поэмы, такие, как «Роман о Розе», «Роман о Лисе» и т. д., и, наконец, легкую поэзию, песни, баллады, лэ, королевские песни плюс всю провансальскую или "романскую" поэзию.
Вторая включает в себя мистерии, моралите и фарсы (вспомним «Патлена»), фаблио, сказки, фацетии, сатирические книги, ноэли – произведения, где доминирует шутка, но в которых тем не менее не редко в потоке фривольного и распутного веселья встречаются глубокие, возвышенные мысли и уроки высокой морали.
Как было можно не предсказать большого будущего такой сильной и разнообразной литературе и как не удивляться, видя ее вдруг повергнутой почти без сопротивления с ее стороны кучкой новаторов, которые вознамерились воскресить Рим, мертвый в течение шестнадцати веков, вознамерились навязать этого воскрешенного победителя с его одеяниями, формами и богами северному народу, наполовину состоящему из германских племен, навязать его обществу полностью христианскому?
Этими новаторами были Ронсар и поэты его школы; направление, которое они придали литературе, оставалось действенным вплоть до наших дней.
Не будем углубляться в историю французской поэзии: это заняло бы слишком много места. В эпоху Ронсара поэзия эта в самом деле находилась в состоянии глубокого упадка; ростки ее увяли; она умерла, так и не достигнув того, к чему, казалось, была предназначена. Все это потому, что распоряжались ею только придворные поэты, которые могли извлечь из нее одни лишь песни празднеств, лести и бесцветной галантности; все это потому, что не было у нас людей одаренных, которые сумели бы ее понять и воспользоваться ее богатствами. Однако такие одаренные люди нашлись среди иностранцев, особенно в Италии, чья средневековая литература обязана нам расцветом своих великих поэтов. А чем завершились у нас высокие обещания XII и XIII веков? Смехотворной поэзией, в которой метрические оковы и требования усложненной рифмовки вытеснили красочность и поэтичность; темными и безвкусными аллегорическими поэмами; тяжелыми и несвязными легендами; рифмованными сухими историческими повествованиями; и все это было выражено поэтическим языком, который выглядел на сто лет старше языка прозы и разговорной речи. Ибо стихотворцы так рабски подражали своим предшественникам, что сохраняли даже их устаревший язык. Поэтому серьезная поэзия всем надоела, а поэмы и романы XII века стали переводить прозой, сила и гибкость которой росли изо дня в день. Наконец, было решено, что французский язык не пригоден для высокой поэзии, и ученые поспешили воспользоваться этим приговором, заявив во всеуслышание, что всерьез говорить о поэзии можно только применительно к латинским и греческим стихам.
Что касается народной поэзии, то благодаря Вийону и Маро она шагала в ногу с прозой, славной такими именами, как Жуанвиль, Фруассар и Рабле. Но после смерти Маро его школа не нашла в себе сил, чтобы продолжить начатое им дело, однако именно она оказала Ронсару наиболее серьезное сопротивление; и хотя в ней не нашлось крупных талантов, она была достаточно сильна по части эпиграмм: «щипцы Меллена», которые так больно кусали Ронсара в разгар его славы, вошли в поговорку.
Не знаю, достаточно ли этих нескольких фраз, чтобы обрисовать состояние литературы тех времен, показать наступившее в ней междуцарствие, которое обычно следует за смертью гения или после конца блестящей литературной эпохи, как это неоднократно случалось нам видеть позже. Представьте себе этакое стадо второстепенных писателей, беспокойно поглядывающих то направо, то налево в поисках вожатого: одни из них остаются верны памяти умерших великих людей и сохраняют в своих рядах место для их теней; другие охвачены смутным стремлением к обновлению, которое находит свое выражение в смехотворных опытах; самые разумные создают теории и занимаются переводом… Неожиданно появляется человек с громким голосом и на целую голову выше толпы; тогда последняя разделяется на две партии, начинается борьба, великан в конце концов празднует победу, покуда более ловкий не вспрыгнет ему на плечи и не будет провозглашен самым великим.
Но не будем предвосхищать событий: мы пребываем в году 1549-м, когда с промежутком в несколько месяцев появились «Защита и прославление французского языка» и первые «Пиндарические оды» Пьера де Ронсара.
«Защита французского языка» Жоашена Дю Белле, одного из друзей и учеников Ронсара, представляет собой манифест, направленный против тех, кто утверждал, что французский язык слишком беден для поэзии, что надо оставить его народу и писать стихи только по-гречески и на латыни. <…>
Книга Дю Белле – весьма выдающаяся книга, она из тех, что бросают яркий свет на историю французской литературы; в то же время она, быть может, известна меньше всех других трактатов, написанных на эту тему. Я не знаю ни одного автора, который в последующие два века заинтересовался бы ею, если не считать г-на Сент-Бёва, посвятившего ей свой разбор. Я не рискнул бы так много говорить о ней, если бы не рассматривал ее, как самую точную историю школы Ронсара.
В самом деле, здесь есть все, и, поскольку реформа и теории, проповедуемые в «Защите и прославлении французского языка», были затем полностью восприняты и применены на практике по всем пунктам, трудно сомневаться, что книга не была создана всей школой в целом, то есть Ронсаром, Понтюсом де Тиаром, Реми Белло, Этьеном Жоделем и Антуаном де Баифом, которые вместе с Дю Белле, составили то, что впоследствии было названо «Плеядой»1. (1 Примечательно, что «Защита и прославление» не называет по имени ни одного из этих поэтов, хотя некоторые из них уже пользовались известностью. Мне кажется, что Дю Белле, будь он единственным автором книги, не упустил бы возможности упомянуть имена своих друзей.) Впрочем, большая часть этих авторов написала к тому времени много произведений в духе проповедуемой Дю Белле системы, хотя они еще не были ими опубликованы. Более того, в «Защите и прославлении» ставится вопрос об одах, а несколько позднее Ронсар в одном предисловии говорит, что он первый ввел слово «ода» во французский язык, и это никем никогда не оспаривалось.
Но независимо от того, создана ли эта книга несколькими авторами или только одно перо выразило в ней заветы и доктрины определенной группы поэтов, она несет на себе печать полного незнания старой французской литературы или печать вопиющей несправедливости. Презрение, с которым Дю Белле по справедливости относится к поэтам своего времени, подражателям старых поэтов, он совершенно неправомерно распространяет и на этих последних; он поступает так, как если бы сегодня стали ругать писателей великого века <имеется ввиду XVII век> за серость современных стихотворцев, идущих по их стопам.
Возможно ли, чтобы Дю Белле, настоятельно рекомендующий прививать чужеземные ветви к стволу национального древа, готового вот-вот погибнуть, верил, что другая, лучшая культура может вернуть ему жизнь, и не считал его способным самостоятельно приносить плоды? Он советует создавать новые слова, используя для этого греческий и латынь, как будто иссякли источники для образования новых слов только из старофранцузского; он настоятельно рекомендует оды, элегии, сатиры и т. д., как будто эти поэтические формы уже не существовали ранее под другими названиями; античные поэмы, как будто нормандские хроники и рыцарские романы не удовлетворяли всем условиям жанра и не соответствовали к тому же духу и истории средних веков; трагедии, как будто мистерии не могли стать подлинными средневековыми трагедиями, более верными и свободными, чем античные, если бы ими занялись люди, обладающие гениальностью.
…Ничем нельзя оправдать то великолепное презрение, с которым поэты Плеяды утверждали, будто до них не было абсолютно ничего, причем не только в серьезных жанрах, но решительно во всем; со счетов оказались сброшенными как Рютбёф, так и Вийон; Карл Орлеанский – и Клеман Маро вместе с Сен-Желе; а также Рабле, Жуанвиль и Фруассар в прозе. Не будь этой страсти к уничтожению, этой жажды строить только на руинах, можно было бы согласиться, что изучение и даже временное подражание античной литературе могли бы оказаться при тех обстоятельствах весьма благоприятными для прогресса нашей литературы и нашего языка. Но неумеренность испортила все: от формы перешли к содержанию; не довольствуясь тем, что стали насаждать античную поэму, захотели, чтобы она повествовала о истории древних, а не о нашей истории; чтобы трагедия прославляла только невзгоды знаменитых семейств Эдипа и Агамемнона; от поэзии потребовали, чтобы она признавала только богов античной мифологии. Одним словом, этот поход, столь ловко представленный Дю Белле как победа над чужеземцами, только привел этих последних в качестве победителей на нашу землю, постепенно стер отличительные черты нашего национального характера, заставил нас краснеть за наши обычаи и даже за наш язык, и – верх нелепости – довел нас до того, что в течение долгого времени мы изображали наших королей и героев в римских одеяниях и делали надписи на наших памятниках, пользуясь латынью.
Безусловно, именно в этом несоответствии классической литературы нашим нравам и нашему национальному характеру (помимо тех смешных аномалий, о которых я частично говорил выше) следует искать причину ее малой популярности.
Однако подобные рассуждения заставили меня уклониться от темы: я наугад привел несколько доводов, которые обсуждались уже не раз. Написаны целые тома, где они выглядят гораздо убедительнее, и все же сколько еще на свете людей, отказывающихся с этим согласиться! Правда, в последние годы замечается более разумная тенденция1. (1 Будем надеяться, что последняя вспышка подражания древним имела место в дни революции 93 года и что на сей раз мы окончательно расстались с Леонидами, Брутами и Регулами, и с длинными пиндарическими одами, и с консулами, и с трибунами, и со всей этой ветошью Римской республики, напяленной на XIX век; для нас это уже кое-что значит – галльский петух вместо классического орла!) Теперь стали почитывать книги по французской истории, а когда в наших коллежах ее будут знать почти так же хорошо, как историю античности, когда изучению французского языка уделят несколько часов, отнятых у греческого и латыни, то это безусловно приведет к значительному прогрессу в области национального самосознания и, возможно, к меньшему презрению по отношению к старой французской литературе, ибо все это взаимосвязано.
Я обвинил школу Ронсара в том, что она навязала нам классическую литературу, когда мы могли бы отлично без нее обойтись, и, главное, навязала ее, исключая все остальное, с полным презрением к нашему собственному прошлому. Но если рассматривать труды и нововведения школы под другим углом, с точки зрения прогресса в области стиля и поэтического колорита, то надо признать, что за многое мы должны быть ей благодарны, что во всех жанрах, не требующих большой творческой силы, в жанрах легкой и изящной поэзии, она превзошла и предшествующих поэтов и многих из тех, которые пришли ей на смену. К тому же в произведениях подобного рода подражание классическим образцам менее ощутимо; маленькие оды Ронсара, например, кажутся по большей части созданными в духе песен XII века, которые они нередко превосходят по своей свежести и наивности; также его сонеты и некоторые элегии исполнены подлинного поэтического чувства, коего XVIII век, столь богатый по части разнообразной поэзии, был совершенно лишен.
Нет в литературе судьбы более странной, чем судьба Ронсара: кумир просвещенного века, вызывавший восхищение таких людей, как де Ту, Лопиталь, Пакье и Скалигер; провозглашенный несколько позднее Монтенем равным крупнейшим поэтам древности; переведенный на все языки; окруженный таким преклонением, что Тассо, приехав в Париж, домогался чести быть ему представленным; удостоенный после кончины почти королевских почестей во время похорон и оплакиваемый всей Францией, он должен был бы, по образному выражению г-на Сент-Бёва, войти в историю, как в храм. Но нет! Потомство уличило XVI век во лжи и в плохом вкусе; оно предало осмеянию и поруганию осколки разбитого вдребезги кумира, и новые боги сменили слишком знаменитую Плеяду, завладев ее трофеями. Бог с ней, с Плеядой! Что представляют собой все эти идущие следом поэты, какими были Баиф, Белло и Понтюс при Ронсаре; Ракан, Сегрэ и Саразен при Малербе; Демаи, Берни, Вийет при Вольтере и т. д.? Но у Ронсара есть еще другое потомство, и теперь, когда все ставится под вопрос, когда высокие репутации кладутся на весы, словно души в аду, и взвешиваются на них безо всяких предубеждений и независимо от того, как нам их представили, - кто знает, окажется ли Малерб достаточно весом, чтобы выступить в роли отца классической поэзии? Возможно, это будет не единственный приговор Буало, который грядущее отменит и разорвет.
Мы говорим здесь только о справедливости и порядке, как мы их понимаем, и наше суждение о школе Ронсара отнюдь не столь благосклонно, чтобы нас можно было заподозрить в пристрастности. Если наше мнение ошибочно, то не потому, что мы уделили мало внимания вещественным доказательствам, не потому, что не листали книг, пребывавших в забвении три столетия. Если бы авторы, занимающиеся историей литературы, относились к ней с вниманием, не было бы все тех же грубых ошибок, наполняющих тысячи различных томов, которые пишутся, повторяя друг друга, один на основе другого; не было бы ни окончательных приговоров, базирующихся на сердитой и пристрастной критике, сорвавшейся с уст в пылу литературной борьбы, ни высоких репутаций, построенных на произведениях, которыми восхищаются, не зная их, и в чьи достоинства верят на слово.
Нет! Мы отнюдь не снисходительны к школе Ронсара. И в самом деле, при первом же взгляде не может не вызвать раздражения этот своеобразный деспотизм, навязанный ею литературе, эта гордость, с которой она произносила «odi profanum vulgus»1 (1 Ненавижу непросвещенную чернь (латин.)) Горация, отвергая, словно оскорбление, все простонародное и почитая только благородное, всегда принося в жертву искусству естественность и правдивость. Так, ни один поэт не прославлял весну и природу больше, чем поэты XVI века. Вы думаете, они искали когда-нибудь вдохновения у весны и природы? Никогда! Вполне довольствовались другим: собирали наиболее изящное из того, что было сказано античностью по сему поводу, и составляли из этого нечто целое, вполне достойное высокой оценки знатоков. Отсюда проистекало то, что они изо всех сил остерегались иметь собственные мысли, и это было настолько очевидно, что ученые комментарии, коими хотели оказать честь их произведениям, все свои усилия направляли только на то, чтобы обнаружить наиболее вероятные античные образцы, использованные для подражания. Эти поэты во многом походили на некоторых художников, которые пишут свои картины, не отрывая взгляда от картин мастеров: руку пишут, подражая одному; голову – подражая другому; драпировку – третьему; а целое – ради вящей славы искусства. И художники эти считают невеждой всякого, кто осмеливается их спросить: а не лучше ли было бы просто подражать природе?
Затем, после этих неприятных размышлений, которые приходят вам в голову при первом чтении произведений Плеяды, более внимательное чтение примиряет вас с нею. Согласен: принципы ничего не стоят; целое – несообразно, фальшиво и смешно; однако какая-то часть деталей вызывает невольное восхищение; примитивный и свежий стиль служит такой хорошей приправой к старым мыслям, уже превратившимся в банальность у греков и римлян, что для нас они обладают всей прелестью новизны…
…Так обстоит дело с большей частью тех, кто составлял школу Ронсара. Вклад самого мэтра значительно весомее: его мысли не заимствованы у античности; то, что создано им, не ограничивается только изяществом и наивностью выражения. Из него можно было бы легко выкроить несколько самостоятельных крупных поэтов, для этого достаточно было бы выделить каждому из них по нескольку лет его жизни. Сперва предстает перед нами поэт пиндарический: именно его стиль, темный, напыщенный, склонный к эллинизмам и латинизмам, мог по справедливости навлечь на себя упреки. Все это дошло до наших дней, передаваясь от комментария к комментарию, авторы которых не утруждали себя подлинным исследованием проблемы. Однако изучение других поэтов того времени показывает, что стиль этот существовал и раньше; задолго до появления Ронсара и его друзей Рабле нападал на тех, кто был обуян страстью создавать слова по образцу древних. В целом у поэтов Плеяды мало таких слов, которые не были бы уже в употреблении. Главную свою задачу они видели в том, чтобы ввести во французскую литературу античные жанры и, хотя советовали вводить и слова, они уделяли этому не так уж много внимания; более того, не они первыми стали употреблять составные слова, столь часто встречающиеся, как утверждают, в их стиле.
Затем явился поэт анакреонтический и влюбленный: к нему относятся те наблюдения, о которых шла речь выше, и именно он больше всего содействовал созданию школы. Позднее он обратился к элегии, и здесь мало кто из его подражателей мог с ним сравниться: причина тому – мастерство, с каким он чеканит александрийский стих, очень редко употреблявшийся до него и который он необычайно усовершенствовал.
Все это подводит к последнему периоду развития ронсаровского таланта, как мне кажется, наиболее блистательному, хотя и менее прославленному. Его «Рассуждения» содержат в зачатке жанры послания и правильной сатиры, и, что еще важнее, они отмечены удивительным совершенством стиля…
…Хоры <французского перевода «Антигоны» Софокла> напоминали мне удивительные подражания грекам, оставленные нам поэтами XVI века, когда наш язык, еще сохранявший связь с греческим, гораздо лучше был приспособлен к таким подражаниям…
Примечания:
Ронсар Пьер де (1524 – 1585) – поэт, глава Плеяды.
«Адвокат Патлен» – один из самых популярных фарсов второй половины XV в. Создан анонимным автором. Имя главного персонажа стало нарицательным.
Вийон Франсуа (1431 или 1432 – ?) – поэт.
Маро Клеман (1496 – 1544) – поэт.
Жуанвиль Жан де (1224 – 1319) – писатель, автор «Книги о святых речах и добрых делах святого Людовика», где дана живая характеристика Людовика IX и описание седьмого крестового похода.
Фруассар Жан (ок. 1337 – после 1404) – хронист, автор прозаической «Хроники», охватывающей события с 1325 до 1400 г. «Хроника» – одно из самых значительных произведений XIV века.
Рабле Франсуа (1494 – 1553) – писатель.
Сен-Желе Меллен де (1487 – 1558) – поэт, автор эпиграмм.
Дю Белле Жоашен (1522 – 1560) – поэт, теоретик Плеяды.
Тиар Понтюс де (1521 – 1606) – поэт, один из членов Плеяды.
Белло Реми (1528 – 1577) – один из поэтов Плеяды.
Жодель Этьен (1532 – 1573) – один из поэтов Плеяды, драматург.
Баиф Жан-Антуан де (1532 – 1589) – один из поэтов Плеяды.
Рютбёф (2-я пол. XIII в.) – поэт, один из первых представителей городской лирики, предшественник Вийона.
Карл Орлеанский (1391 – 1465) – поэт.
Ту Жак де (1553 – 1617) – историк и государственный деятель, автор фундаментальной «Истории моего времени», проникнутой идеями веротерпимости.
Лопиталь Мишель (1505 (?) – 1573) – государственный деятель, сторонник политики религиозной терпимости, оказывал поддержку близким ему гуманистам и литераторам.
Пакье Этьен (1529 – 1615) – юрист, историк и литератор, был близок Плеяде и стал впоследствии ее историографом.
Скалигер Юлий Цезарь (Жюль Сезар; наст. имя Джулио Бордони; 1484 – 1558) – филолог, критик, поэт, автор «Поэтики», оказавшей некоторое влияние на Ронсара.
Монтень Мишель де (1533 – 1592) – писатель.
Малерб Франсуа де (1555 – 1628) – поэт.
|